Влияние характера питания и пищевых привычек, дефицита макро- и микронутриентов на репродуктивное здоровье женщин (обзор)
Aннотация
Актуальность: В российской и международной литературе все больше уделяется внимания выявлению модифицируемых факторов риска окружающей среды, образа жизни и питания, влияющих на репродуктивную функцию человека. Причем важно, что эти факторы, влияя на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин, в конечном счете, негативно отражаются на здоровье потомства. Изучение влияния питания на функционирование репродуктивной системы, позволит спрогнозировать возможные нарушения и своевременно предупредить их развитие. Цель исследования:Резюмировать данные исследователей о влиянии рациона питания, дефицита макро- и микронутриентов на показатели репродуктивного здоровья женщин. Материалы и методы:Проведен ретроспективный анализ научных работ за прошедшие 10 лет без языковых ограничений, задействуя ресурсы поисковых систем PubMed, eLIBRARY, Google Scholar, по ключевым словам. Для этого обобщенного анализа мы использовали публикации, содержащие доказательную экспериментальную и клиническую базу по наиболее актуальным вопросам питания, пищевым пристрастиям и дефициту макро- и микронутриентов, а также их влиянию на репродуктивное здоровье современных женщин. Результаты:Многочисленные исследования показали взаимосвязь характера питания с фертильностью женщин. Благоприятное влияние растительного белка на фертильность может быть связано с улучшением чувствительности к инсулину и более низкой постпрандиальной секрецией этого гормона по сравнению с животным белком. Доказана связь между высоким титром антител к мишеням щитовидной железы и бесплодием/репродуктивными дисфункциями, включая снижение овариального резерва. Рецепторы витамина D экспрессируются во многих тканях репродуктивных органов: яичники, эндометрий, плацента, гипофиз и гипоталамус; витамин D влияет на различные эндокринные процессы и стероидогенез половых гормонов. Заключение:Рацион женщины, планирующей беременность, должен быть сбалансирован, как по количеству, так и по качеству поступающих углеводов; с высоким потреблением МНЖК и ПНЖК при низком потреблении трансжиров. Снизить долю животного белка и отдавать предпочтение растительным белкам. Ликвидировать дефициты основных микроэлементов, а также принимать дополнительно йод, витамин D, фолиевую кислоту, железо, магний в виде препаратов или БАДов. Эти меры позволят значительно повысить процент зачатия, вынашивания и рождение здорового потомства
Ключевые слова: характер питания, дефицит микроэлементов, гликемический индекс, белки, полиненасыщенные жирные кислоты, фолиевая кислота, йод, витамин D, железо, магний, репродуктивное здоровье
Введение. Пропаганда инициатив в области здоровья до зачатия растет во всем мире. Так, в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и в Глобальной стратегии по охране здоровья женщин, детей и подростков на 2016-2030 годы делается акцент на здоровье девочек и женщин в подростковом и репродуктивном возрасте [1, 2]. В таких странах как США, Великобритания, Китай, Бельгия и Нидерланды разрабатываются и тестируются местные программы и мероприятия, которые повысят осведомленность о важности здоровья до зачатия и будут способствовать планированию и подготовке к беременности [3-8]. Необходимость такого рода инициатив совершенно очевидна и для России, особенно в современных реалиях.
Одним из факторов, безусловно влияющих на здоровье женщины, возможность наступления и течение беременности, является характер ее питания и пищевые привычки. Более того, есть исследования, свидетельствующие о том, что питание матери во время беременности может отражаться на репродуктивных качествах потомства [9]. Факторы, связанные с питанием, играют важную роль в регуляции овуляции [10]. К диетическим компонентам, оказывающим положительное влияние на овуляцию, относятся: углеводные продукты с низким гликемическим индексом, растительный белок, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, фолиевая кислота, витамин D, антиоксиданты, железо и ряд других микронутриентов. Такая структура питания характерна для средиземноморской диеты. К компонентам, оказывающим негативное влияние, в основном относятся углеводы с высоким гликемическим индексом, большое количество животного белка, насыщенные жирные кислоты и трансжирные кислоты, которые обычно присутствуют в западной модели питания [11].
Цель исследования. Анализ данных современных исследователей за последние 10 лет о влиянии рациона питания, дефицита макро- и микронутриентов на показатели репродуктивного здоровья женщин.
Материалы и методы исследования. Для выполнения представленных целей был выполнен нарративный обзор по базам данных PubMed, eLIBRARY, Google Scholar, по ключевым словам на русском и английском языках: «характер питания» «гликемический индекс», «белки», «полиненасыщенные жирные кислоты», «фолиевая кислота», «йод», «витамин D», «железо», «магний», «репродуктивное здоровье», «nutrition», «glycemic index», «proteins», «polyunsaturated fatty acids», «folic acid», «iodine», «vitamin D», «iron», «magnesium», «reproductive health». Были выбраны 118 источников, максимально точно раскрывающие поставленные задачи.
Результаты и их обсуждение
Гликемический индекс и углеводы
В механизме нарушениям фертильности и овуляции не последнюю роль играют высокий гликемический индекс и высокое содержание углеводов в рационе, которые влияют на чувствительность тканей к инсулину. Инсулин непосредственно участвует в реакции фолликулов яичников на гонадотропин: обнаружена сопряженность высоких уровней инсулина и аномального стероидогенеза яичников с нарушением развития ооцитов [12]. Гиперинсулинемия прямо коррелирует с гиперандрогенией, что также способствует возникновению нарушений овуляции и усугубляет эндокринные нарушения у женщин [13, 14].
Риск развития ановуляторного бесплодия прямо коррелирует с количеством потребляемых углеводов. Многочисленные исследования показывают, что низкоуглеводная диета способствует большей частоте овуляций за счет влияния на чувствительность к инсулину [11, 15, 16].
Есть данные, что на женскую фертильность и овуляцию оказывают влияние пищевые конечные продукты гликирования (КПГ), образующиеся в результате реакции аминогрупп белков, липидов, аминокислот и нуклеиновых кислот с альдегидной группой углеводов приготовлении пищи при высоких температурах (особенно при жарке). Полагают, что КПГ могут накапливаться в слое гранулезных клеток и играть негативную роль, усиливая окислительный стресс, нарушая регуляцию функции яичников и овуляции, фолликуло- и стероидогенез. КПГ в основном влияют на действие лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов и приводят к нарушениям овуляции, особенно у женщин с СПКЯ [17].
Липиды
Если говорить о липидах, то как и перегрузка липидами, так и недостаточное поступление их в организм может отражаться на репродуктивном статусе человека. Cristodoro M. и соавт. (2024) в так называемой западной диете, для которой характерно высокое потребление красного мяса, жареных продуктов, рафинированного сахара и низкое потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, содержание жиров ранжируется следующим образом: насыщенные жирные кислоты (НЖК) 62,4%, мононенасыщенные (МНЖК) – 30,7%, полиненасыщенные (ПНЖК) – 6,9%, холестерин составляет лишь 1% жиров [18]. Однако, данных о влиянии жиров на репродуктивную функцию у женщин немного, и этот вопрос является предметом научных исследований. В частности, мало данных о взаимосвязи между потреблением жиров, уровнем андрогенов и овуляцией. Предполагается, что высокие уровни НЖК могут вызвать нарушения овуляции [19]. Повышенные уровни НЖК коррелируют с повышенной резистентностью к инсулину, увеличением концентрации маркеров воспаления и снижением экспрессии PPAR-γ; это механизмы, которые отрицательно влияют на овуляцию [11]. В то же время исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень ПНЖК в рационе весьма позитивно сказывается на фертильности как женщин, так и мужчин. Связывают это в первую очередь с тем, что ПНЖК являются предшественниками противовоспалительных эйкозаноидов, которые участвуют в агрегации тромбоцитов и регуляции воспалительных реакций, а также играют важную роль в иммунно-опосредованных реакциях [20].
N.M. Molina и соавт. (2023) приводят данные, что в микроокружении матки у пациенток с повторной неудачной имплантацией отсутствуют ПНЖК, что может влиять на функции эндометрия [21]. Успешный исход у женщин, проходящих курс ВРТ, прямо коррелировал с количеством омега-3 ПНЖК, поступающих с пищей [18].
Значительное негативное влияние на фертильность оказывают трансжирные кислоты (ТЖК) [22]. Трансжиры – это изомеры мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, имеющие по крайней мере одну метиленовую группу, двойную связь углерод-углерод не в типичной цис-, а в транс-конфигурации [23].
K. Łakoma и соавт. (2012) обращают внимание на то, что высокое потребление ТЖК приводит к увеличению маркеров воспаления, способствует резистентности к инсулину и повышает риск развития диабета 2 типа или других метаболических нарушений, включая СПКЯ, что отрицательно влияет на функцию овуляции и фертильность женщин. В целом, большинство данных подтверждают негативное влияние диет с высоким содержанием трансжирных кислот и низким содержанием ПНЖК (полиненасыщенных жиров) на репродуктивную функцию у здоровых женщин [24].
Белки
Роль потребления белков в репродукции сложна, и до сих пор неясно, как источник или количество потребляемого белка может повлиять на овуляторную функцию или женскую фертильность. К настоящему времени установлено, что существует корреляционная зависимость между потреблением белка и синтезом андрогенов. Другими словами, потребление животных или растительных белков потенциально может быть связано с повышенным или пониженным риском овуляторного бесплодия [13, 25].
Негативное или позитивное влияние потребления белка на женскую фертильность во многом зависит от количества белка в рационе. Эти выводы подтверждаются относительно недавними исследованиями группы китайских ученых, которые на большой выборке – 2217 пациенток с СПКЯ установили, что для женщин с нарушениями овуляции характерна значительно более высокая доля мяса в рационе по сравнению с женщинами с нормальной овуляцией [26].
Негативное влияние красного мяса на развитие эмбриона и беременность может быть обусловлено действием конечных продуктов гликирования (КПГ), образующихся в процессе приготовления пищи животного происхождения. КПГ может вызвать внутриклеточное повреждение, приводящее к бесплодию как у мужчин, так и у женщин [18]. Накопление КПГ вызывает окислительный стресс как в ооцитах, так и в сперматозоидах. У женщин окислительный стресс повреждает ДНК ооцитов, ускоряя старение яичников. Это состояние может определять усиление апоптоза фолликулов и снижение функции яичников.
Благоприятное влияние растительного белка на фертильность может быть связано с улучшением чувствительности к инсулину и более низкой постпрандиальной секрецией этого гормона по сравнению с животным белком [12]. Белки красного и белого мяса по-разному влияют на концентрацию циркулирующего IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста 1). Отмечается, что женщины, потребляющие большее количество животного белка, имели более высокие концентрации IGF-1, что коррелировало с возникновением нарушений овуляции и аномальным развитием фолликулов яичников [26]. Потребление растительных белков повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень IGF-1 и положительно влияет на овуляцию [18, 26].
Репродуктивная система в условиях дефицита микронутриентов
Микронутриенты – это питательные вещества, необходимые организму в небольших количествах, такие как витамины и минералы. Дефицит микроэлементов может возникнуть, когда человек ограничивает потребление калорий для снижения или контроля веса, не потребляет достаточного количества пищи для удовлетворения энергетических потребностей из-за плохого аппетита или болезни, регулярно исключает одну или несколько групп продуктов из рациона или употребление диеты с низким содержанием продуктов, богатых микроэлементами, несмотря на адекватное или чрезмерное потребление энергии. Группы пациентов риска включают подростков, планирующих беременность и беременных женщин, пациентов, придерживающихся вегетарианской или веганской диеты. Микронутриентами, которые чаще всего требуют добавок, являются витамин D, железо, магний, фолиевая кислота и йод.
Дефицит йода
Значительная часть территории Российской Федерации – это регионы с доказанной природной недостаточностью йода [27].
В настоящее время в России при необходимой норме 150-250 мг в день среднее потребление составляет приблизительно 80 мг [28], а при беременности потребность в микроэлементе возрастает в 2 раза из-за увеличения выработки гормонов щитовидной железы и экскреции йода [29]. Когда физиологические потребности в йоде в популяции не удовлетворяются, возникает ряд функциональных нарушений и нарушений развития, включая эндемический зоб и кретинизм, которые обозначают термином «йододефицитные заболевания».
Йод необходим для образования гормонов щитовидной железы. Важнейшими источниками йода в рационе являются морепродукты, яйца и молочные продукты (отчасти за счет использования в молочной промышленности дезинфицирующих средств на основе йода и йодофоров). Продукты, богатые йодом, также включают треску, минтай, лосось, пшеничные отруби, брокколи, сухие семена гороха и фундук. Самым распространенным природным источником йода являются морские водоросли [30]. В России вновь зарегистрировано нарастание частоты случаев кретинизма, связанного с выраженным внутриутробным дефицитом йода. Расчеты показывают, что около 1,5 млн жителей России могут иметь умственную отсталость и инвалидизацию вследствие дефицита йода в питании [31, 32].
Йодный дефицит, помимо уже упомянутой умственной отсталости, сопровождается многочисленными негативными последствиями: мертворождения, самопроизвольные аборты, врожденные аномалия у плода, репродуктивные нарушения, а также специфические заболевания щитовидной железы – гипотиреоз и тиреотоксикоз [33]. Вышесказанное ставит эту проблему в ряд чрезвычайно актуальных медико-социальных проблем.
Недостаточность функции щитовидной железы имеет разнообразные клинические формы. К гинекологическим маскам гипотиреоза относят синдром поликистозных яичников, менометроррагии, синдром галактореи-аменореи [34]. Механизмы этих проявлений активно изучаются. Гормоны щитовидной железы – тиреоидные гормоны (ТГ), участвуют в нормальном росте, развитии и функционировании многих органов, включая половые железы и мозг.
Благодаря анализу информационной РНК и исследованиям белков стало известно, что различные клетки яичника, включая клетки эпителия, ооциты и гранулезные клетки, экспрессируют рецептор ТТГ, рецепторы гормона щитовидной железы TRα1, TRα2 и TRβ1, причем экспрессия этих белков по-разному регулируется на разных стадиях развития фолликула [35, 36]. Эндометрий так же по-разному экспрессирует эти белки на протяжении различных фаз менструального цикла [37]. Гормон щитовидной железы играет решающую роль в имплантации и раннем развитии плода, воздействуя на плаценту и эндометрий, включая регуляцию инвазивности вневорсинчатых трофобластов [38]. В работе R. Vissenberg и соавт. (2015) и C. Dosiou и соавт. (2020) рассмотрены многочисленные эффекты гормона щитовидной железы, такие как его синергическое действие с ФСГ по стимуляции пролиферации гранулезных клеток, усиление инвазивного потенциала экстраворсинчатого трофобласта за счет воздействия на экспрессию матриксных металлопротеиназ и усиление рецептивности эндометрия во время окна имплантации [39].
Cвязь гипотиреоза с нарушением функционального овариального резерва была исследована у крыс после содержания на диете с низким содержанием йода [40]. К концу наблюдения количество примордиальных, первичных и преантральных фолликулов уменьшалось, тогда как существенных изменений атретических фолликулов не отмечалось. Эти же авторы в другом исследовании сообщали, что нарушение выброса ФСГ и ЛГ в яичниках крыс с гипотиреозом сопровождалось оксидативным стрессом с сопутствующим уменьшением антиоксидантных ферментов: каталазы, супероксиддисмутазы и NO-синтазы [40]. Cледует учитывать, что дисфункция материнской щитовидной железы у крыс, как гипотиреоз, так и гипертиреоз, влияет на развитие яичников потомства за счет уменьшения количества фолликулов на разных стадиях развития [41, 42].
Заболевания щитовидной железы довольно распространены у женщин репродуктивного возраста. Доказана связь между высоким титром антител к мишеням щитовидной железы и бесплодием/репродуктивными дисфункциями, включая снижение овариального резерва [43]. Поэтому K.G. Michalakis и соавт. (2015), женщинам, страдающим преждевременным снижением овариального резерва, рекомендуют скрининг на уровни ТГ и антител к щитовидной железе.
Недостаточное потребление йода особенно опасно для женщин детородного возраста и беременных женщин из-за решающей важности гормонов щитовидной железы для развития мозга в период внутриутробного развития [44]. Легкий и умеренный дефицит йода во время беременности связан с ухудшением навыков чтения и снижением интеллекта у детей в возрасте 5-8 лет [45]. Результаты опроса матерей и детей в Норвегии показали, что низкое потребление йода во время беременности связано с задержкой речевого развития и снижением мелкой моторики в трехлетнем возрасте, усилением поведенческих проблем в три и восемь лет и ухудшением школьных навыков в восемь лет [46, 47]. Прием йода до зачатия может увеличить запасы йода и выработку гормонов щитовидной железы во время беременности и, таким образом, минимизировать вероятность развития йододефицитных нарушений у плода [29].
Дефицит фолиевой кислоты
Недостаток витамина В9 является самым частым гиповитаминозом в мире [2]. Систематический обзор исследований по оценке фолатного статуса у женщин репродуктивного возраста в 39 странах показал, что распространенность дефицита фолиевой кислоты составляла >20% во многих странах с неразвитой экономикой, но была <5% в высокоразвитых странах. Только в 11 исследованиях сообщалось о распространенности дефицита ФК, превышающей 40% [48].
Дефицит фолатов часто встречается у женщин репродуктивного возраста, находящихся на строгой диете [49]. Более половины немецких женщин репродуктивного возраста не потребляют с пищей достаточного количества фолата для достижения его оптимальных концентраций, необходимых для предотвращения дефектов нервной трубки – расщелины позвоночника, грыжи позвоночника и анэнцефалии [50]. Японские исследователи отмечают, что предикторами дефицита ФК являются молодой возраст матери, низкий уровень образования и низкий семейный доход [51]. Эти же авторы указывают на повышенный риск дефицита ФК у курильщиков, как активных, так и пассивных, маркером такого риска является высокий уровень котинина в сыворотке крови. Доступность метильных групп, связанная с адкватным содержанием фолата влияет, на стабильность ДНК с глубокими последствиями [52]. Курение матери, особенно на ранних сроках беременности, сопряжено с высоким риском окислительного стресса в плаценте, снижает метилирование плацентарной ДНК, изменяет запасы и метаболизм фолата, поскольку на одноуглеродный метаболизм влияет окислительно-восстановительный баланс [53].
Поскольку фолаты участвуют в синтезе нуклеиновых кислот и аминокислот и имеют решающее значение для роста и дифференцировки клеток [54], потребность в фолатах увеличивается во время беременности из-за роста плода/плаценты и увеличения матки [55, 56]. Дефицит фолиевой кислоты в гестационный период приводит к тяжелым неблагоприятным последствиям для плода, включая врожденные дефекты нервной трубки, пороки сердца и мочевыводящих путей [57, 58], недостаточную массу тела при рождении [59, 60], повышенное артериальное давление [61].
Национальные агентства здравоохранения во всем мире рекомендуют женщинам детородного возраста дополнительно принимать 0,4-1 мг фолиевой кислоты в день, чтобы снизить риск дефектов нервной трубки [62]. Полагают, что механизм формирования дефектов нервной трубки в отсутствие фолата включает повышенное убиквитинирование генов, связанных с закрытием нервной трубки, тем самым влияя на их экспрессию [63]. Период наибольшей уязвимости приходится на четвертую неделю развития, когда женщина может не подозревать, что она беременна, примерно в это время происходит закрытие нервной трубки. По этой причине женщины детородного возраста должны принимать добавки фолиевой кислоты, если они ведут активную половую жизнь, особенно при планировании зачатия. Если беременная мать будет принимать 4 мг фолиевой кислоты ежедневно, ее организму может потребоваться 20 недель, чтобы достичь оптимального уровня фолиевой кислоты, чтобы снизить риск дефекта нервной трубки. По этой причине прием добавок следует начинать за 5-6 месяцев до зачатия [64]. Опубликованы данные, свидетельствующие о том, что прием адекватного количества фолиевой кислоты снижает риск преждевременных родов [65]. Гипергомоцистеинемия может вызвать апоптоз и повреждение ДНК в сосудистых клетках плаценты и дисфункцию эндотелия матери, что приводит к тяжелым осложнениям [66], может увеличить риск осложнений беременности во втором триместре в 18 раз [67]. Кроме того, было обнаружено, что младенцы и дети женщин, страдавших от дефицита фолиевой кислоты во время беременности, страдали астмой на более поздних этапах жизни [66].
Принимая во внимание патогенетическую роль фолатов в развитии дефектов нервной трубки, нейропатий, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и некоторых других, правительствами ряда стран были приняты программы фортификации продуктов питания фолиевой кислотой. В США такая программа начала работать с 1998 г. [68]. Анализ данных Инициативы по обогащению пищевых продуктов за 2022 год показал, что в 2022 году в 68 странах с помощью фолиевой кислоты было предотвращено в общей сложности 63 520 случаев расщелины позвоночника и анэнцефалии [69].
Дефицит витамина D
Витамин D – незаменимый жирорастворимый стероидный гормон, необходимый для метаболизма кальция и фосфата, гомеостаза костей, дифференцировки клеток и функционирования иммунной системы. Распространенность дефицита витамина D среди населения постепенно увеличивалась за последние несколько десятилетий из-за урбанизации и кардинального изменения образа жизни.
Более 50% населения мира подвержено риску дефицита витамина D, т.к. человек зависит от солнца для удовлетворения потребности в нем [70]. В России большой вклад в высокую распространенность дефицита витамина D вносит ее географическое положение в северных широтах с низкими инсоляцией и среднегодовыми температурами. Считается, что до 80% витамина D в организме человека является следствием его эндогенного синтеза в коже, активируемого воздействием УФ-лучей спектра В с длиной волны 280-320 нм [71].
Развитие дефицита отчасти обусловлено недостаточным обогащением продуктов питания витамином D и неправильным представлением о том, что здоровая диета содержит адекватное количество этого микронутриента [70]. Поступление витамина D в организм из пищевых источников лимитировано его низким в них содержанием, лишь немногие продукты, такие как яйца, жирная рыба, говядина, а также рыбий жир богаты витамином D [72].
Особенно восприимчивы к дефициту витамина D женщины детородного возраста и беременные женщины [73]. Распространенность недостаточности или дефицита витамина D во время беременности варьируется в зависимости от региона: 27,0-91,0% в США, 45,0-100,0% в Азии, 39,0-65,0% в Канаде, 19,0-96,0% в Европе, 25,0-87,0% в Австралии и Новой Зеландии [74]. Уровень распространенности дефицита витамина среди бесплодных женщин составляет 58-91% [75].
Рецепторы для витамина D присутствуют во многих тканях и органах, включая кишечник, кости, почки, мозг, сердце, желудок и ряд других, что указывает на их потенциальную роль в физиологии этих систем [76].
Все больше исследований указывают на возможную связь между статусом витамина D в сыворотке крови и репродуктивным здоровьем женщин: рецепторы витамина D экспрессируются во многих тканях репродуктивных органов, таких как яичники, эндометрий, плацента, гипофиз и гипоталамус [12, 77]; витамин D влияет на различные эндокринные процессы и стероидогенез половых гормонов [78, 79]; витамин D участвует в регуляции генов, связанных с функциями яичников и плаценты [12, 77, 79].
Исследования показывают, что рецептор витамина D (VDR) экспрессируется в эндометрии [80]. Эндометрий экспрессирует также ген CYP27B1, кодирующий 1-α-гидроксилазу и ответственную за локальное преобразование 25(OH)D в 1,25(OH)2D [81]. Кроме того, в ткани эндометрия была обнаружена экспрессия CYP2R1 и CYP27A1, кодирующих 25-гидроксилазу [82]. Присутствие CYP27B1 и VDR в тканях плаценты указывает на участие витамина D в экспрессии и секреции хорионического гонадотропина человека и плацентарного лактогена [83]. Витамин D также играет решающую роль в биосинтезе эстрогенов у женщин, запуская выработку прогестерона, эстрадиола и эстрона in vitro [84].
Концентрация витамина D в сыворотке может быть связана с СПКЯ и эндометриозом и влияет на успех вспомогательный репродуктивных технологий [79]. Поперечное исследование в Китае, в котором приняли участие 625 женщин с диагнозом СПКЯ и 217 женщин контрольной группы, показало, что у женщин с диагнозом СПКЯ наблюдался заметно более низкий уровень витамина D по сравнению со здоровыми [79]. Это позволило исследователям прийти к выводу, что более высокий уровень витамина D в сыворотке служит защитным фактором от риска СПКЯ.
Было обнаружено, что дефицит витамин D может снизить частоту овуляции и успешной беременности у пациенток с СПКЯ; кроме того, есть данные, что уровень витамина в сыворотке является независимым предиктором живорождения у пациенток с СПКЯ, получавших индукцию овуляции [85]. Добавление в терапию витамин D женщинам с СПКЯ может снизить частоту ранних выкидышей и преждевременных родов [86].
Ядерный рецептор витамина D и мембраносвязывающий белок 1,25(OH)2D экспрессируются как в гранулезных клетках яичника, так и в тека-клетках [87]. Было обнаружено, что витамин D может регулировать экспрессию ферментов в VDR и яичниках, в конечном итоге регулируя функцию яичников, причем мРНК VDR значительно меньше экспрессируется в гранулезных клетках женщин с СПКЯ. Это указывает на то, что пациенты с СПКЯ более чувствительны к дефициту витамина D [79]. Сказанное выше позволяет исследователям рекомендовать контролировать уровень витамина D в сыворотке женского населения, особенно женщин репродуктивного возраста, а своевременное его назначение пациенткам с СПКЯ будет способствовать улучшению их репродуктивной функции и исходов беременности.
Таким образом, наблюдаемая в настоящее время недостаточная обеспеченность витамином D населения РФ обусловлена как низким уровнем его эндогенного синтеза вследствие географического расположения территории страны, так и недостаточным потреблением с пищей. Анализ литературы подчеркивает важность своевременного скрининга недостаточности и дефицита витамина D у всех категорий населения, но особенно у женщин репродуктивного возраста, а также профилактики дефицита витамина D с целью предотвращения возможных осложнений беременности, родов и патологии потомства.
Дефицит железа
Дефицит железа, железодефицитная анемия (ЖДА) и анемия при хронических заболеваниях являются очень распространенными заболеваниями, поражающими большую часть населения [88]. Всемирная организация здравоохранения признала дефицит железа наиболее распространенным дефицитом питания в мире и основным фактором, определяющим анемию [2].
Железо, поступающее в организм с пищей, существует в двух основных формах, известных как гемовое и негемовое железо. Гемовое железо получают из продуктов животного происхождения, оно гораздо более биодоступно, чем негемовое железо, которое можно получить как из растительных, так и из животных источников. Различные компоненты пищи могут усиливать или ингибировать всасывание железа: мясные белки и органические кислоты увеличивают всасывание железа, а фитаты, кальций и полифенолы – снижают.
Проблема дефицита железа может решаться как на индивидуальном, так и на государственном уровне через производство обогащенных железом продуктов (рис, мука, печенье и др.). При этом важно, чтобы процесс обогащения не оказывал существенного негативного влияния на органолептические свойства и срок годности пищевого продукта [89].
Однако, несмотря на высокую распространенность и влияние на качество жизни, ЖДА среди женщин фертильного возраста остается недостаточно диагностируемой и недостаточно леченной [90]. Экспертами совета «Актуальные вопросы железодефицита в Российской Федерации» диагностика ЖДА и дефицита железа в России признана недостаточной [91]. Среди причин этого называются сложности диагностики ввиду неспецифичности проявлений, что ограничивает своевременное обращение за медицинской помощью, отсутствие настороженности врачей первичного звена в отношении этой патологии, отсутствие структурированных клинических рекомендаций с выделением группы риска для скрининга и диагностики ЖДА.
Риск возникновения дефицита железа связан с такими факторами, беременность, менструация, кроме того, риск повышается с увеличением возраста и наличием различных заболеваний.
Причины возникновения дефицита железа у молодых женщин разнообразны. В их число входит дефицит кобаламина или фолиевой кислоты, который в настоящее время встречается все чаще, поскольку некоторые люди предпочитают не употреблять в пищу продукты животного происхождения – мясо, яйца или молоко. Клиническую важность этот аспект приобретает у молодой женщины-вегетарианки на предгравидарном этапе. Микронутриентный статус женщины еще до беременности оказывает значимое влияние, как на течение беременности, так и на развитие ребенка внутриутробно и в постнатальный период. Обеспеченность микронутриентами ребенка первого года жизни зависит от обеспеченности беременной и кормящей женщины [92].
Среди женщин фертильного возраста одним из распространенных и серьезных сценариев являются кровотечения, приводящие к потере железа, в частности, обильные менструальные кровотечения [93]. Менструация в целом рассматривается как признак репродуктивного здоровья; однако обильное кровотечение может отражать наличие заболеваний матки [94]. J. Donnez с соавт. указывают на недостаточную осведомленность молодых женщин в этом вопросе: 46% женщин, по их данным, никогда не обращались к врачу по поводу обильных менструальных кровотечений [95]. Часто подростки не осознают, что их менструации ненормальны, поскольку известно, что менструальные циклы в пубертатном периоде могут быть нерегулярны.
Потеря железа может происходить без кровотечения, поскольку во время беременности потребность в железе существенно возрастает. Беременным женщинам необходимо 370 мг железа для плода и плаценты; дополнительно требуется 450 мг в третьем триместре для повышения эритроцитарной массы [96]. У большинства беременных к концу срока гестации отмечается скрытый дефицит железа, при этом у трети из них развивается ЖДА [97]. Выявлено, что статус железа у матери влияет и на фертильность, способствуя развитию рецептивности эндометрия. Следовательно, дефицит железа может снизить вероятность зачатия и вызвать бесплодие [98, 99].
Следует подчеркнуть, что дефицит железа особенно опасен для беременных женщин и плодов. Так, например, было показано, что женщины с ЖДА имеют двойной риск рождения ребенка с аутизмом [100], а у матерей, потребляющих с пищей 14-22 мг железа в день, был значительно ниже риск возникновения орофациальных расщелин [101] и анэнцефалии с ОШ 0,51 (95% ДИ: 0,28, 0,96) [102]. Поэтому решающее значение для обеспечения соответствующего лечения и получения удовлетворительных результатов имеет ранняя диагностика дефицита железа до начала ЖДА. Это позволит уменьшить большое количество (40%) женщин, вступающих в беременность с дефицитом железа и улучшить качество их жизни [103]. Это, в свою очередь, обеспечит оптимальное развитие плода и улучшит условия протекания беременности, позволив избежать переливания крови, уменьшит риск преждевременных родов, низкого веса новорожденного, перинатальных осложнений, смертности новорожденных и матерей, низкой переносимости кровопотери при родах, увеличения инфекций и ЖДА у новорожденных [104].
Дефицит магния
Несмотря на общепризнанную важность магния, доступность Mg2+ обычно у пациентов не определяется и не контролируется, поэтому магний называют «забытым катионом» [105]. Более того, уровни магния в сыворотке обычно не отражают содержание катиона в разных частях тела. Таким образом, нормальный уровень магния в сыворотке не исключает его дефицита [106, 107]. Субклинический дефицит магния, связанный с низким потреблением или чрезмерными потерями, встречается довольно часто [107]. Ранние признаки дефицита магния включают слабость, потерю аппетита, утомляемость, тошноту и рвоту. По мере усугубления дефицита могут возникнуть мышечные сокращения и судороги, онемение, покалывание, изменения личности, коронарные спазмы, аномальный сердечный ритм и судороги. Наконец, тяжелый дефицит магния может привести к гипокальциемии или гипокалиемии, поскольку нарушается минеральный гомеостаз [108].
Mg2+ участвует практически во всех основных метаболических и биохимических процессах внутри клетки и отвечает за многочисленные функции в организме.
Mg2+ необходим для контроля пролиферации клеток: для репликации ДНК, транскрипции РНК и образования белков; Mg2+имеет решающее значение для поддержания геномной и генетической стабильности, действуя в качестве кофактора почти для каждого фермента, участвующего в процессах репарации [109, 110]. Эта функция чрезвычайно важна для правильного развития плода.
Дефицит магния у беременных встречается чаще, чем в популяции в целом, что связано с ростом и развитием плода, увеличением общей массы крови, высоким уровнем эстрогенов, увеличением массы матки, появлением и ростом плаценты, которая характеризуется высокой концентрацией митохондрий и высоким содержанием магния, участвующего в образовании АТФ [111]. В этом контексте важна доступность для плода катионов магния, которые переносятся через плацентарный барьер (от 3 до 5 мг ежедневно) с помощью выделенных каналов и транспортеров [112, 113] и накапливаются в организме плода.
Потребление магния во время беременности увеличивается на 15-20%, а в период кормления – на 20-25%. Соответственно, суточная потребность для беременных женщин и кормящих матерей будет составлять 450-500 мг/сутки. Согласно резолюции III Международного экспертного совета по проблемам дефицита магния в акушерстве и гинекологии, нижнюю границу референсных значений магния в сыворотке/плазме крови у беременных нужно поднять до значений 0,80-0,85 ммоль/л [114]. Следует отметить, что в ряде стран (Швейцария, Франция, Германия) за нижнюю границу нормы принят уровень 0,85 ммоль/л [115].
К сожалению, несмотря на увеличение потребности в магнии во время беременности, у большинства беременных женщин она не удовлетворяется. Дефицит магния во время беременности связан с более высоким риском для здоровья как матери, так и новорожденного, включая задержку роста и внутриутробного развития плода, гестационный диабет, преждевременные роды и преэклампсию, а также может иметь серьезные последствия для здоровья на протяжении всей жизни. Регулярный мониторинг уровня магния очень важен у людей с риском хронической гипомагниемии, но особенно желателен у женщин репродуктивного возраста в процессе предгравидарной подготовки. Своевременное выявление дефицита магния и правильная нутриентная поддержка позволят предотвратить возникновение заболеваний, имеющих серьезные социальные последствия, и, в конечном итоге, улучшить их исход, сохраняя значительные ресурсы для всего общества [116].
Результаты многочисленных исследований показали взаимосвязь характера питания с фертильностью женщин. Так, гиперинсулинемия прямо коррелирует с гиперандрогенией, что также способствует возникновению нарушений овуляции и усугубляет эндокринные нарушения у женщин. Риск развития ановуляторного бесплодия прямо коррелирует с количеством потребляемых углеводов. Низкоуглеводная диета способствует большей частоте овуляций за счет влияния на чувствительность к инсулину. Также было отмечено, что успешный исход беременности и рождение ребенка у женщин, проходящих курс ВРТ, прямо коррелировал с количеством омега-3 ПНЖК, поступающих с пищей. Исследователи обращают внимание на то, что высокое потребление трансжиров приводит к увеличению маркеров воспаления, способствует резистентности к инсулину и повышает риск развития диабета 2 типа или других метаболических нарушений, включая СПКЯ, что отрицательно влияет на функцию овуляции и фертильность женщин. Йодный дефицит сопровождается многочисленными негативными последствиями: мертворождения, самопроизвольные аборты, врожденные аномалии у плода, репродуктивные нарушения. Дефицит фолиевой кислоты в гестационный период также приводит к тяжелым неблагоприятным последствиям для плода, включая врожденные дефекты нервной трубки, пороки сердца и мочевыводящих путей, недостаточную массу тела при рождении. Обнаружена связь между статусом витамина D в сыворотке крови и репродуктивным здоровьем женщин: рецепторы витамина D экспрессируются во многих тканях репродуктивных органов, таких как яичники, эндометрий, плацента, гипофиз и гипоталамус. Витамин D влияет на различные эндокринные процессы и стероидогенез половых гормонов, участвует в регуляции генов, связанных с функциями яичников и плаценты. Выявлено, что уровень железа у матери влияет и на фертильность, способствуя развитию рецептивности эндометрия. Следовательно, дефицит железа может снизить вероятность зачатия и вызвать бесплодие. Mагний необходим для контроля пролиферации клеток: для репликации ДНК, транскрипции РНК и образования белков; Mg2+имеет решающее значение для поддержания геномной и генетической стабильности, действуя в качестве кофактора почти для каждого фермента, участвующего в процессах репарации. Эта функция чрезвычайно важна для правильного развития плода.
Заключение. Таким образом, можно констатировать, что чувствительность тканей к инсулину является одним из наиболее важных факторов, определяющих нормальное течение овуляции, в связи, с чем низкокалорийная диета, а также диета с низким гликемическим индексом имеет существенное значение для предотвращения овуляторного бесплодия. Поэтому рацион женщины, планирующей зачатие, должен быть сбалансирован как по количеству, так и по качеству поступающих углеводов. Так же анализ современных данных показал, что более высокое потребление ПНЖК, особенно длинноцепочечных жирных кислот омега-3, и более низкое потребление трансжирных кислот может быть полезным для повышения женской фертильности. Принимая во внимание вышеупомянутые факты, женщинам детородного возраста, планирующим беременноcть, следует рекомендовать высокое потребление МНЖК и ПНЖК (в том числе высокое потребление омега-3 жирных кислот из жирной рыбы или пищевых добавок) при низком потреблении ТЖК и НЖК. Что касается роли белка в репродукции, данные литературы позволяют констатировать, что в механизмах нарушения женского репродуктивного здоровья существенную роль играет соотношение в рационе растительного и животного белков, и более высокая доля растительного белка в контексте коррекции ановуляторного бесплодия является предпочтительной. Принимая во внимание, что потребление красного мяса, особенно обработанного, повышает резистентность к инсулину, можно предположить его негативное влияние на овуляцию. Также ликвидация дефицитов эссенциальных микроэлементов на прегравидарном этапе может значительно снизить риски возможных пороков развития плода, осложнения беременности, послеродового периода и в целом повысить качество жизни женщины и ее потомства в долгосрочной перспективе.
Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось.
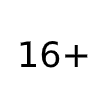




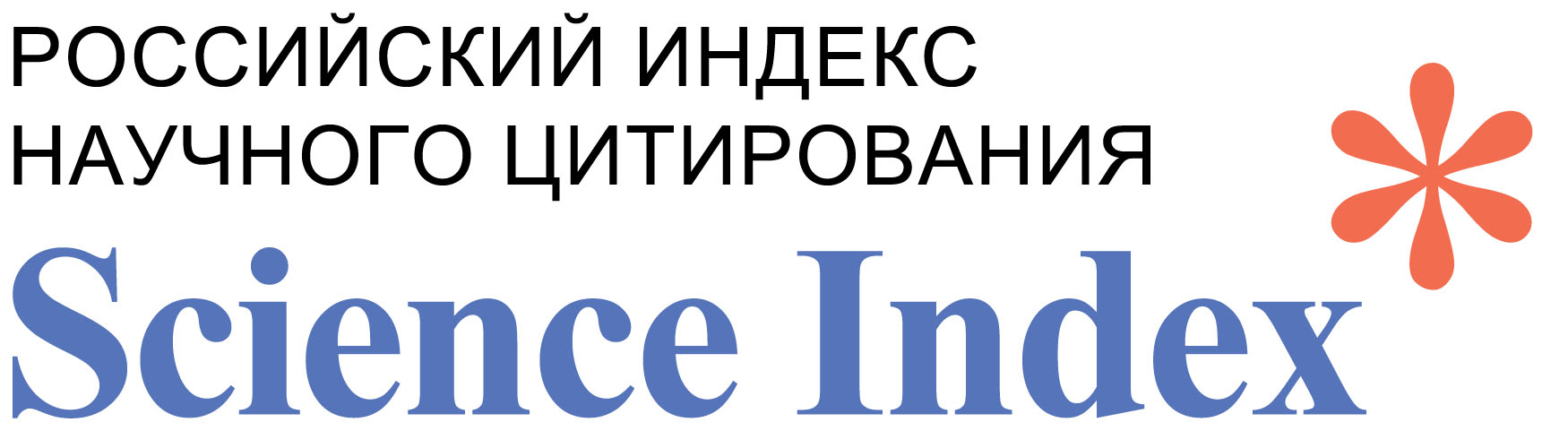



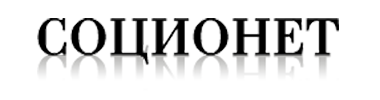
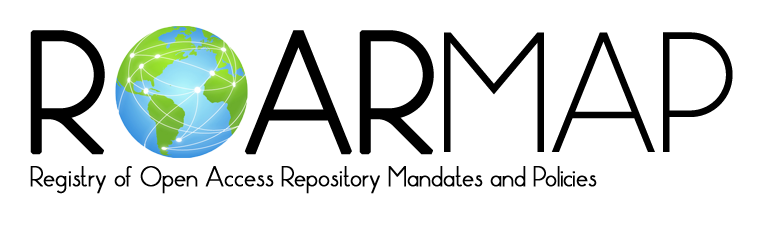

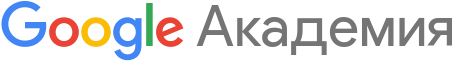

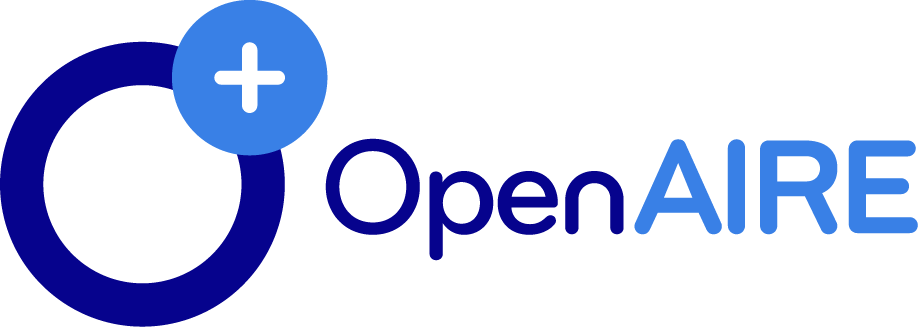






Список литературы